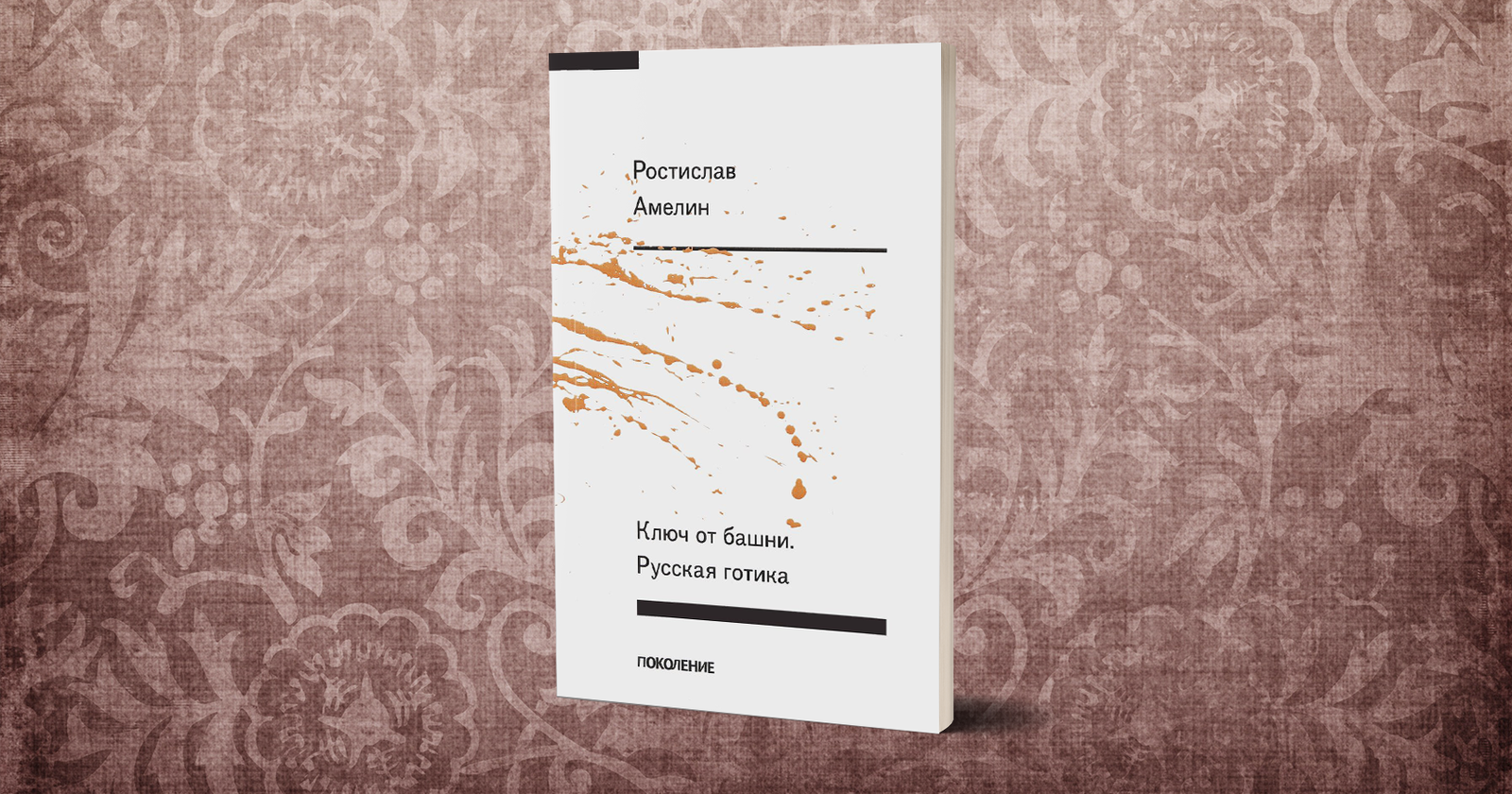В декабре 2017 года вышла вторая поэтическая книга Ростислава Амелина «Ключ от башни. Русская готика». Изначально самиздатовские «Ключ от башни» и «Русская готика» планировались как два разных издания, отсюда двойное название объединённого в диптих сборника, выпущенного издательством «Арго-риск» в серии «Поколение».
Для начала нужно отметить, что «Ключ от башни…» отличается от первой книги Амелина «Античный рэп». Автор за несколько лет принципиально изменил траекторию развития поэтики. «Античный рэп» — тонкая вязь; лучи света, расходящиеся, блуждающие в воде бликами; слово, «которое чтобы завершиться, должно отразиться в скороговорке и напряжённом вытягивании сразу целой грозди слов» (Александр Марков). «Античный рэп» — это «синтез речи, мысли, музыки и живописи». Эта поэтика работала на усложнение, вещи расслаивались, отражались друг в друге, собирались в группы и рассеивались.
Совершенно иное дело «Ключ от башни…». Здесь Ростислав Амелин оперирует прямыми высказываниями. Границы слов чаще чётко очерчены в своем значении, много «знаковых и вечных» образов: небо, солнце, огонь, вода, красота, тьма, свет, башня и т. д. Высказывания (даже в общем контексте растерянности) ультимативные. Но эти смелость и пафос оправданы. У Ростислава получается достигать такой прямоты, чистоты высказывания, которые сложно достижимы. Он умело балансирует между самоиронией и патетикой, что выделяет его поэтику из других.
Мне бы хотелось попробовать определить некоторые механизмы, вокруг которых разворачивается в текстах амелинский космогонический проект.
Этот проект — пересобирание вселенной. Причем деконструкция выступает не как средство. Это самодостаточный процесс; процесс создания здания, собирание Рая: «я / собрала Рай / для себя / не для тебя / хочешь свой Рай / собирай / сам / и играй / там».
В текстах Амелина сразу задается огромный масштаб (пространственно-временной, общечеловеческий). Нас захватывают головокружительные скорости каждой пересборки мира. От текста к тексту происходит определение (и перераспределение) со-отношений между очень далекими вещами. Если пофантазировать, это создание формулы для всего мироздания, только вместо неизвестных мы имеем вещи: мысль, рабство, планета, тёмная материя, хаос, логос, ключ, корзина с ландышами:
вот ключ от башни // башня в доме / дом в квартале / квартал в городе / город в государстве / государство в народе / народ в рабстве / рабство в мысли / мысль в мозге / мозг в теле / тело на земле / земля на планете / планета в галактике / галактика в тёмной материи / тёмная материя в космосе / космос в хаосе / хаос в логосе / голос в комнате / комната в башне // а вот ключ от башни // но он сломан / дом стар / квартал тих / город счастлив / государство развито / народ сломлен / рабство запрещено / мысль очевидна / мозг включён / тело дано / дело начато / земля продана / планета захвачена / галактика необъятна / тёмная материя видима / космос прекрасен / хаос страшен / логос создан / голос светел / комната пуста // а в кровати корзина / а в корзине ландыши / ландыши в корзине / корзина в кровати / кровать в комнате
Хочется вспомнить в связи с этим текстом эпизод из картины Кубрика «Космическая одиссея…» — сцену в апартаментах. Там время и пространство теряют свои земные свойства. Хаотично меняются ракурсы съемки: астронавт смотрит на себя же из капсулы; еще одна смена ракурса — и там, где мы хотим увидеть капсулу, ее уже нет.
Так же в тексте: пересобирая мир второй раз, мы слышим голос, но себя не обнаруживаем: «логос создан / голос светел / комната пуста // а в кровати корзина / а в корзине ландыши».
Вспомним последние кадры фильма Кубрика. Герой умирает на кровати. Смена ракурса — и вместо старика мы уже видим младенца в прозрачной сфере, «Звёздное дитя». В тексте «вот ключ от башни» в пустой комнате (вместо нас?) появляются ландыши («Звёздное дитя»). Это стихотворение тоже своеобразная одиссея, возвращение домой через пересобирание ракурсов. Только интересно, что после того, как мы обнаруживаем ландыши в корзине, движение продолжается, круг начинается заново: «ландыши в корзине / корзина в кровати / кровать в комнате». Финал открыт. Значит мир не собран — и не должен быть собран (этой речью). Единственное, что дает нам этот текст (и книга в целом) — позицию, точку, с которой всё остальное соотносится. Эта точка — корзина с ландышами.
Покоряет интонация уверенности в текстах книги, но растет она из торжества неуверенности: «и жить собираюсь долго / в растерянности / но с уверенностью / с надменностью / но без серьезности».
Есть в текстах Ростислава Амелина множество парных категорий, которые создают это торжество неуверенности. Не все из них очевидны: огонь — вода, тьма — свет, экспозиции — руины, Ад — игра, жизнь — еда, доброта — беднота, ВЕЩИ — вещи, горькая вишня — яблоня и проч. Эти пары не имеют никакого отношения к плохо — хорошо. Они существуют взаимодействуя, совместно и нераздельно.
есть тьма и свет / и свет летит / а тьма стоит / за ним / под ним, над ним / и перед ним / как мать, отец / и сын / тьма это путь / и свет идёт / по ней как бык / как бог / тьма это луг / где свет растёт / как мирт / лежит как стог / свет это шар / небесных сфер / свет это дар / огня / свет это ангел / Люцифер / свет это ты / и я
Этот текст — яркий пример оперирования гигантскими пространствами. Именно они и создают скорость. Скорость падения, как во сне — и пробуждения: Ангел — Люцифер — Свет — Ты — Я.
огонь / говорит / воде // «мы с тобой / везде / я тебя люблю / и пою воде // ты огню / спой // вода говорит «ой // огонь / я… сама с собой / но тебе спою // ты шар золотой / я — земной / мы — в Раю // сколько раз говорю / не говори со мной
Что же делает тексты Ростислава Амелина открытыми и интересными как для литературного сообщества, так и для читателя, «непосвященного» в особенности (современной) поэзии? Дмитрий Кузьмин пишет о текстах Ростислава следующее: «Такая амбивалентность пафоса возвращает нас к золотой поре русского поэтического концептуализма, к ранним текстам Пригова и Льва Рубинштейна, в которых критика дискурса непременно осуществлялась на речевом материале, который сам по себе способен вызывать простые эмоции, лучше всего — комбинацию реакций «смешно» и «душевно». Думаю, кроме этого, есть еще одна составляющая читательского интереса: мы ощущаем в текстах искренность и радость — эти чувства автор не скрывает ни от читателя, ни от себя. Он ими наслаждается.
…иногда, прислонившись к двери поутру, можно слышать печальное пение про «смирение», про «прощение» — и другую муру детским голосом: «…никогда не умру…», «…я свободен как птица…», «…я живу как могу…», «…я устал…», «…мир мне снится…», «…помогу чем смогу…» // Папа водит гостей, мама варит бурду: по старинному лифту наверх уезжают тарелка и книжка; ни тарелки, ни книжки назад — только письма в парчовых конвертах: про любовь, про волшебный сад, про страну под космическим ветром, про «сердца», про полеты к далеким планетам, про дорогу назад — «детский сад», говорят — и выбрасывают вместе с конвертом.